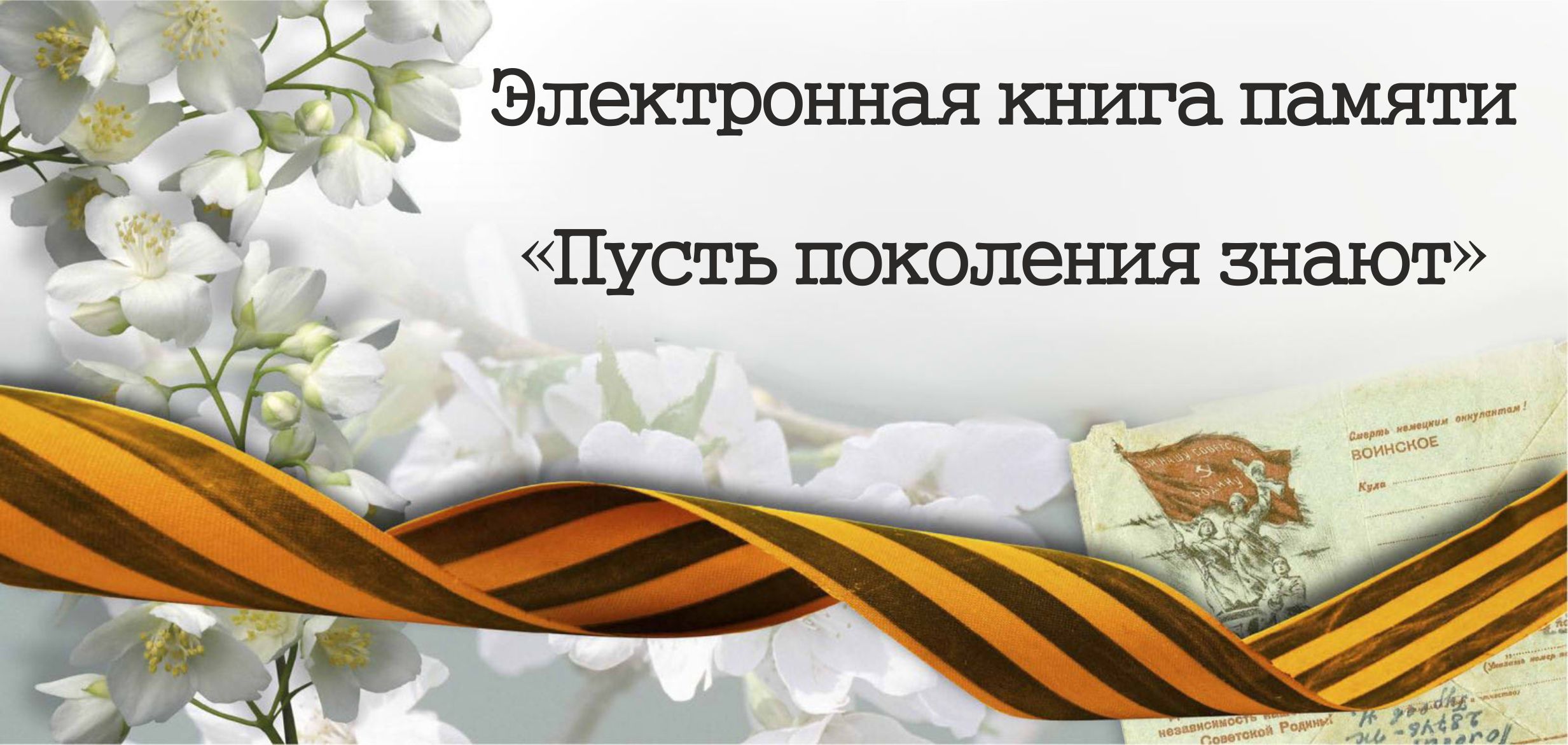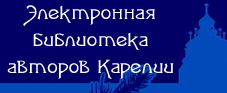Воспоминания из очень далёкого детства.
Костомукша 2009 год.
До войны...
Случается же такое в жизни - одному ребёнку не успеет и года сравняться, как на свет уже появляется другой. Ну что тут скажешь, разве это второе дитё желанное? Нет, конечно, - вынужденное. Посмотрит мать - затянула с беременностью. А может быть она даже не предполагала, что эта беременность уже существует, поскольку кормит грудью первого малыша. А когда поймёт, что случилось, побежит к врачу, просит, умоляет освободить её от ненужной беременности, но бывает уже поздно.
Вот так же случилось и со мной. Старшей сестричке Тамаре исполнилось 11 месяцев, и я уже прокричать изволила. Когда сестричка родилась, нашей маме было уже двадцать четыре, а папе и вовсе двадцать девять лет. И, естественно, Тамарочка оказалась ребёнком долгожданным ( родители поженились за три года до рождения первенца). Была она девочкой красивой: с чёрной кудрявой головкой, чёрными бровками, чёрными глазками, маленьким носиком и ротиком-пуговичкой.
Всего этого я, конечно, не помню, но фотографии мне обо всём говорят. Часто рассматриваю их и всё больше нахожу разницу между нами - родными сестричками. Вот на этой: мне два годика, а Тамарочке три. Она стоит худенькая, стройненькая; а я рядом, как размазня - толстая, ноги жирные, белобрысая, безбровая, да ещё зачем-то и в шляпе соломенной с загнутыми вверх полями. Ну, как полная луна! Родителям, наверно, я и такая нравилась, ведь не виновата же я в том, что не вовремя зачалась. И потом, я всегда видела, что они нас не различали, любили одинаково обеих. И одежду нам покупали одинаковую, и обувь, как близнецам. И разницы в нашем возрасте никто не замечал, разве только те, что знали нас.
Итак: мы родились в поселке Сеща, Брянской области, Тамарочка в 1937 году, а я в 1938. До начала войны мы проживали в родном посёлке с папой - Савкиным Иваном Сергеевичем и мамой -Савкиной (Иванютиной) Марией Давыдовной. Из этого очень далёкого детства вспоминаю несколько коротеньких эпизодов.
В доме завелась мышь, и мы гоняли её с сестричкой вокруг печи, или она нас гоняла, стоял жуткий визг.
Родители покупали нам халву, она почему-то была упакована в какую-то плотную бумагу рыжего цвета.
Мама уходила в магазин и прятала от нас воду. А нам очень хотелось постирать бельё. Мы писали в горшок, снимали с себя рубашки, стирали их, потом ими же мыли полы. Услышав, что мама открывает дверь, прятались под кровать в разные углы. Мама вытаскивала нас оттуда и спрашивала, кто это сделал. Я говорила: «Это не я, это Тома», а сестричка: «Это не я, это Галя». Ничего не добившись, мама наказывала обеих.
На нашу Брянщину пришла война...
В первый день войны папу отправили на фронт, воевал на Мурманском фронте. Мама бросила квартиру в Сеще и переехала с нами в деревню Сердечкино, что в пяти километрах от Сещи. Там жили мамина сестра - инвалид с детства и престарелая бабушка (мамина мама). Так мы стали жить впятером. А в 1942 году на Брянщину пришла война. Мне в ту пору сравнялось четыре года, сестричке пять, а маме всего двадцать восемь. Немцы оккупировали нашу территорию. На месте бывшего аэродрома, где до войны работали родители (а в начале войны аэродром эвакуировали на Урал), немцы устроили свою крупнейшую авиабазу. С неё они отправляли свои самолёты бомбить Москву и другие города. В Сеще была создана подпольная группа, а в лесу партизанский отряд Фёдора Данченкова.
Мама стала связной между ними. Немцы объявили «мёртвую зону» в радиусе пяти километров от Сещи. Входить и выходить из неё можно было только по пропускам. А нужно было сводки и мины-лимонки из партизанского отряда передавать подпольщикам и наоборот. Но где взять маме пропуск? Вот мы с сестричкой и служили этими пропусками. Объявит нам утром мама: «Дети, вы всю ночь проболели, я поведу вас к врачу в Сещу». И так убедит нас в этом, что мы и в самом деле поверим. Навяжет нам повязок на животы, уши перевяжет, себе мины повяжет, сводки возьмёт, нас за руки и вперёд в Сещу - в пекло врага. Везде расставлен немецкий патруль. Спрашивают: «Куда идёте?» А мама: «Не видите, дети заболели? В больницу веду». Вот так и пропускали нас. Мы, дети, тогда ничего не понимали. А мамочка наша шла и говорила себе: « Не поймают, значит, дальше жить будем все вместе, ну а поймают, значит, и погибать тоже всем». У каждого для себя была граната. Мама хорошо знала, что грозит партизанским семьям.
Однажды вот так шли мы в Сещу. Вдруг впереди мама заметила много немцев и жителей соседней деревни. Немцы согнали их на какой-то праздник, выстроили всех в кружок - и детей, и взрослых. Мама оцепенела от ужаса, но возврата назад не было. Немцы нас уже заметили и кричали: « Ком, ком...» Поставили и нас в кружок. Какой-то немец играл на губной гармошке, кто-то из деревенских детей двигался, изображая танцы. Затем один из фрицев пошёл по кругу, внимательно вглядываясь в лица детей. И вдруг остановил свой взор на мне: Мама вся так и замерла. Что у него на уме? А он вытащил из бокового кармана своё семейное фото, на котором стояла девочка моего возраста, точь-в-точь на меня похожая, с такой же копной белых волос. Показывает это фото и объясняет, что в Германии у него точно такая же дочь, которую он очень любит и скучает по ней и по семье. Потом вытащил из кармана очень красивый браслет и одел на мою ручонку. Я помню его до сих пор, хотя давно уже потеряла.
Я помню лицо нашего разведчика, который пришёл по заданию в наш дом, принёс ценные бумаги о коварных планах немцев в Сеще. Только успел передать их маме, как появился немецкий патруль в деревне. Нужно было спрятать этого человека. Она отправила его на чердак, где висели сухие берёзовые веники. Он за ними и спрятался. А мы в это время с сестричкой и соседними девчонками в прятки играли. И я полезла на чердак. Крыша в каком-то месте была дырявая или окошко там было, свет падал на веники, которые раздвинулись, и я хорошо увидела чьё-то лицо. Я кубарем скатилась по лестнице. Заскочила в дом, кричу: «Мамочка, там кто-то есть, я видела». Мама убедила меня в обратном. Чем-то меня увлекла. Сама вышла в сенцы и велела разведчику перепрятаться в высокой конопле за домом. Это лицо, мне кажется, я и сейчас помню.
Вспоминается, как мама прятала нас с сестричкой в большую пустую бочку во дворе и укрывала рваным рядном, чтобы мы не задохнулись, прятала от «сватов», которые приходили, чтобы взять нас «замуж» и увезти далеко от дома, от родных, в Германию. Это происходило, когда мама видела приближающихся чехов и поляков (наших разведчиков) в ненавистной немецкой форме. Они шли к маме, несли ценные сводки и украденные у немцев автоматы для партизан.
Никогда не забыть ужасного зрелища: ночью была бомбёжка. Наши «ястребочки» окружили немецкий самолёт, как ласточки: то над ним, то под ним, сбили его. Он упал носом в речку недалеко от нашего дома. Осколки разлетелись по сторонам. Мы с сестричкой проснулись рано. Пока старшие в доме занимались делами, мы позвали с собой подружек и побежали смотреть самолёт. Наткнулись на оторванную руку немецкого лётчика -синюю, волосатую, с часами. Мы очень испугались, летели домой с криками. Родители нам «всыпали» за то, чтоб не совались, куда не надо. Ведь там могло быть всякое.
А вот хорошо запомнился случай: летом немцы надолго задержались в деревне, всё партизан выискивали. Они забирали у всех жителей молоко, яйца прямо с гнёзд. Наш дом был крайним в деревне. Перед домом коротко скошенная трава, на углу большой старый клён, а от него отходил заборчик из жердей. Мы любили играть под клёном. И там же паслись куры. Немцы ловили и прощупывали курочек, которые ещё не снеслись. Пилотку, полную яиц, они поставили на сплетение жердей, а сами погнались за нашей любимой курочкой - рябой, а она как взлетит прямо на пилотку, та упала, и все яйца разбились. А мы с сестричкой так рассмеялись над этим, что немец разозлился, снял автомат и нацелил на нас. На шум прибежала мама, встала перед ним и закричала: «Не смейте стрелять! Это же дети!» Немец опустил автомат.
Ещё страшный эпизод, который я тоже хорошо помню. Русские били немцев на многих фронтах и эту радость сообщали по радио. Немцы злились и искали репродукторы в каждом доме. Случилось так, что мы с сестричкой были дома одни. В это время к нам ворвались немцы и стали выбрасывать вещи из шкафа, а вещей-то было совсем мало, и среди них был репродуктор. Немцы бросили его на пол, стали топтать ногами, крича: «Русиш швайн, русиш швайн!», что значит - «русская свинья...» И мы, вот такие две крохи, смотрели на этот ужас и громко плакали, крепко обнявшись друг с другом. А что было со старшими, когда они забежали в дом и увидели весь этот ужас!
Очень хорошо отложилось в детской памяти такое событие. Зима была холодная, снежная. Мама с утра пораньше поехала в лес за дровами, бросив в сани пилу, топор и какую-то верёвку длинную. Мы провожали её и наказывали: «Мамочка, ты же поскорей возвращайся и гостинчиков от зайчика привези!» И мы с нетерпением ждали, когда же мама вернётся. Встали с Тамарочкой на окошко и всё смотрели в снежную даль. А вместо мамы мы увидели множество людей в белых одеждах на лыжах. Все они ехали к нашему дому, наверно потому, что дом наш самый крайний. Сняли лыжи и построились в длинный ряд. Первых двенадцать человек в наш дом поселили. А в доме пусто: за печкой лежанка с одной и с другой стороны, а в комнате стол да две длинные скамейки. А возле стены пусто. Вот и поставили немцы свои винтовки в ряд. А мы с сестричкой стоим на окошках, маму ждём и дрожим от страха. Немцы что-то лопочут непонятное, к нам обращаются, но мы не можем ничего ответить, только плачем. Бабушка и тётя Сима (сестра мамина) объясняют сквозь слёзы, что дочь по дрова уехала ещё утром и до сих пор не вернулась, может быть, уже волки съели. Немцы же селили по другим домам остальных своих солдат.
А маме, пока она указания от Данченкова получала да сводки готовила для подпольщиков, партизаны самых хороших кленовых и дубовых дров нарубили, в сани сложили. А между ними мама мины и сводки ценнейшие положила. Кто же знал, что в деревне уже немцы стоят - карательный отряд. Это у немцев была самая страшная сила. С мамой из леса возвращалась ещё юная разведчица, по-моему, это была Лида Корнеева. Пока ехали из леса до деревни, почему-то лошадь несколько раз распрягалась. Поэтому и задержались до вечера. А как только к первому дому подъехали, их сразу же немецкий патруль остановил: «Где были? Почему поздно едете?» Потом спрашивает: «А, вы из того дома, где бабка и дети плачут, что дочь в лес по дрова уехала и нет до сих пор...» И стали по цепочке патруль патрулю передавать, чтобы пропустили женщин. Патруль стоял возле каждого третьего дома. Доехали наконец до своего дома, а там как вывалили немцы, увидели молодых женщин и давай помощь свою предлагать - выгрузить дрова из саней. Еле уговорила их мама идти отдыхать. А в самом большом доме у Бабынихи немцы устроили танцы и Лиду с собой увели. Дома остался один патруль. Пока он ушёл до третьего дома, мама быстренько сводки в снег и закопала. А в это время маму с Лидой на чердаке ждал разведчик из Сещи, чтобы забрать эти сводки. Мама решила проверить у немца, что такое патруль, говорит: «А вы, молодой человек, почему танцевать не идёте?» А он отвечает: «Мне нельзя, я должен патрулировать. Вот я хожу от вашего дома и до третьего, а следующий от третьего и дальше, и так по всей деревне». Маме это и нужно было узнать. И когда он ушёл до третьего дома, мама кашлем сильным дала понять нашему разведчику, что пора уходить, вручила ему выкопанные из снега сводки, и он дворами ушёл в Сещу. Лида тоже сбежала с танцев и ушла туда же. Немцы же, спохватившись, что Лида исчезла, стали Бабыниху (толстую старуху) пытать - куда она Лиду подевала. Они под музыку толкали её то в круг, то из круга, друг к другу до тех пор, пока она выбилась из сил и упала на пол.
И, пожалуй, последнее, что я помню краешком памяти из военного времени: стояла осень, было уже прохладно. Прослышали немцы, что в деревне Сердечкино партизаны проживают, объявили её деревней партизанской и опять выставили патруль. Данченков через одну из наших разведчиц сообщил маме, что в деревне появился провокатор - ищут партизан. Нужно срочно покинуть деревню. Мама уже встречалась с этой молодой женщиной (у неё тоже была такая же девочка, как и мы с Тамарой, и она как раз гостила у нас). Женщины сразу сообразили, что надо предпринять. Они быстро постригли всех нас троих наголо, повязали головы какими-то платками так, чтобы было видно, что мы стриженые, запрягли лошадь, накидали в повозку соломы, посадили нас и выехали со двора. Немцы кричали вслед: «Куда вы едете? Вы что, не слышали, что в деревне партизаны, перебьют вас». А мама громко кричала: «Мы с племянницей едем в другую деревню к тётке. У детей тиф!!!» Немцы тифа очень боялись. От него сотни и тысячи людей умирали. Патрули передавали: «Не задерживайте, у детей тиф». И вслед нам они кричали: «Счастливого пути». А мама с «племянницей» смеялись и говорили: «Знали бы фрицы, кому они счастливого пути желают». Приехали мы к партизанам. Они повели нас в пустую холодную сельскую школу и вдоволь накормили несолёным варёным мясом (забили тяжело раненого коня, а соли не было). Вспоминаю это мясо и сразу в горле режет. Потом нас отправили в лес. Была ночь. Мы были впятером - две взрослые молодые женщины и трое 4-5 летних детей. От несолёного мяса очень хотелось пить. Мы просили принести нам воды. Недалеко протекал ручей или речушка. И поползли наши женщины, чтобы водички достать. А мы втроём остались в тёмном лесу. Было страшно, доносились немецкие голоса. Треснет где-то сучок - мы друг за друга хватаемся. Очень боялись, что наши мамы не вернутся. Но они приползли с фляжкой воды и напоили нас. А после водички мы попросили сухариков погрызть. Я лежала на животе и грызла. Вдруг рядом выстрел, и сухарик мой выпал изо рта, мы рассмеялись. Взрослые закрыли нам рты руками.
Весной на полях все собирали мёрзлую картошку, пекли из неё оладьи (лындики) без масла и соли, прямо на чугунных печках. Мы тоже собирали. Немцы знали это и разбрасывали с воздуха очень красивые, в радужных цветах, длинные круглые баночки, начинённые взрывчаткой. Они унесли много жизней тех, кто их пытался вскрыть. Нас строго предупредили даже не подходить к ним близко, не то что в руки брать.
Сколько мы всего пережили: и страх, и голод, и холод... Не раз смотрели смерти в глаза, но наш Ангел-Хранитель оберегал нас.
После освобождения Брянщины
Сещу освободили от немецких захватчиков 17 сентября 1944 года. В этот год сестричке нужно было в школу идти в 1-ый класс. А жить было негде, наш барак или дом, в котором мы жили до войны, был полностью разрушен, возвращаться некуда. Маму с Тамарой приютила в землянке папина сестра со своими детьми, а мама стала строить маленький домик возле самого вокзала. Она раскапывала груды разрушенных домов и выбирала всё, что могло пригодиться: брёвна, доски, кирпичи и т.д. На раскопки брала с собою Тамарочку. Лепить этот маленький домичек помогали добрые люди: кто стены ставил, кто крышу крыл, кто печку клал. Очень добрые люди были, всех война сплотила, все пострадали. И так стали жить в Сеще мама с сестричкой, в деревню они приходили только в воскресенье утром, а вечером опять уходили. А я осталась в Сердечкине с бабушкой и тётей Симой. Каждый день стояла на окошке и всё смотрела, не покажется ли моя любимая сестричка с мамочкой. Я очень по ним скучала. Так тянулись долгих полгода. А потом взяли и меня с собой, когда мама не устояла перед моими слезами. Сильно уж я плакала, просила хоть одним глазком взглянуть на наше новое жильё. Собрала мама все наши вещички, посадила нас в повозку, сама уселась вместо кучера, и, счастливые, мы не заметили, как проехали пять километров и оказались на окраине посёлка у маленького рынка. Впервые в жизни я узнала, что такое рынок. Раньше я его никогда не видела. Там продавали и картошку, и капусту, и груши, и яблоки, и сливы крупные, красные. Их насыпали в банку и продавали. Мы такими жадными глазами смотрели с сестричкой на эти сливы, что мама купила нам их, долго она почему-то рылась в своём кошелёчке, видно, плоховато было с денежками, но мы этого не понимали. Мы поделили честно эти сливы на троих. Мама отказывалась от своей доли, но мы ей всё равно отдали. Потом она нам их же и вернула под каким-то предлогом. Но сливы эти остались в моей памяти до сих пор, хотя прошло уже 65 лет, я вижу их и чувствую их аромат. Вкуснее этих слив я никогда в жизни ничего не ела!
Так же дороги для меня остались и цветы, которые мама сажала в палисаднике у нашего домика и которые мы с Тамарочкой сажали в школьные годы. Это календула, ромашки, васильки, маки, львиный зев, бархатцы, настурции, разноцветные георгины. Не было тюльпанов, пионов, гладиолусов и других современных цветов. Да, они красивы, спору нет. Но цветы нашего детства нам всех дороже!
А когда я поселилась в Сеще, очень завидовала сестричке, когда та шла в школу. Я утром просыпалась вместе с нею, умывалась, перекусывала, собирала свою холщовую сумку (у Тамарочки была такая же), только вместо учебников и тетрадей набивала её какими-нибудь тряпками, надевала далеко не школьное платье, полупальто, сшитое мамой из шинели, которую папа прислал с фронта, шапку, кирзовые сапоги не по росту и выходила вместе с сестрёнкой из дома. Потом ещё немного бродила по морозу, возвращалась домой, раздевалась, взбиралась на русскую печку, которая к утру уже остывала, укрывалась с головой одеялом и быстро засыпала.
В русской печке тепло долго не держалось, потому что дров сжигалось мало. Где их было взять? Только те, что откапывали из воронок после бомбёжки. Да ещё мама брала Тамарочку, как старшую, с собой и шли они с саночками в ближайшую берёзовую рощу. Там рубили ветки и везли, как дрова. А они сырые были и горели плохо, медленно, да ещё и дымили.
Старшее население раскапывало какие-то подвалы, вытаскивали брёвна, шпалы, распиливали их на небольшие куски, а дети таскали их по своим домам. Несёшь или в саночках везёшь, а ноги дрожат. Слабенькие все были, полуголодные, худющие. А отдыхать некогда, надо одни дрова домой оттащить и за другими возвращаться. У мамы не было больше помощников, кроме нас с сестрёнкой.
Зимы в те годы были холодные, морозы лютые, метели такие сугробы наметали, что другой раз из дома выйти не могли. Откроешь дверь, а перед тобой стена белая. Вот и начинает мама окно перед собой пробивать, чтобы на улицу выбраться, а потом раскидывает снег по сторонам, дорожку расчищает от домика во двор, на улицу.
Чтобы дома было теплее, притащила мама откуда-то печку-чугунку, поставила посередине и топила её каменным углём, за которым по ночам ходила с мешком на станцию. А днем мы с сестричкой ходили на железную дорогу и выбирали кусочки угля из жагры, выброшенной из топки паровоза. Много детей рылось в таких кучах. Набросают в вёдра и счастливые тащат свои ноши домой. Да так не один раз в день. Там же мы собирали и кусочки цветных стёкол (синие, красные, жёлтые, коричневые), и они служили нам игрушками. Через них смотрели на солнышко.
Тепло было от печки-чугунки. Натопит её мама на ночь, закроет заслонку - ну, благодать!
А однажды вечером перед выходным днём решила она искупать всех, вымыть полы и лечь спать пораньше. Пока нас купала, труба несколько раз падала. Поставит мама её на место, а через какое-то время она опять упадёт. Надоело её уже поднимать да ставить, и решила мама, что уголь уже прогорел. От усталости не заметила голубеньких язычков пламени, да и оставила печку - пусть тепло в дом идёт. Пока мама сама купалась в корыте на полу, мне плохо стало - затошнило, Тамарочке тоже. Быстренько мама оделась и только наклонилась, чтобы полы подтереть после бани, как у нас началась рвота. С трудом разогнулась и тут же упала. Очень хотелось спать. На полу прохладно, очнулась и тут поняла-угорели. Доползла до двери, открыла её настежь. Встать не смогла, не нашла в себе сил. Еле-еле добралась до засова на двери коридорчика. Открыла дверь, свежий морозный воздух придал немного сил. В голове одна мысль - добраться до госпиталя через дорогу. Несколько раз пыталась встать на ноги, чтобы скорее добраться, но каждый раз тут же падала. Еле доползла до крыльца, ухватилась за перила и тут же рухнула на ступеньки. Молодой военный врач Петя сидел у окошка, писал письмо своей девушке. Вдруг услышал шум за окном, выбежал на крыльцо и увидел лежащую без чувств нашу маму.
- Лида, быстро нашатырь! - крикнул он медсестричке.
В один миг оказалась девушка рядом, растёрла виски, дала понюхать.
- Что случилось, Мария Давыдовна? - выпалил врач.
- Скорее, там дети...
И опять потеряла сознание.
... Очнулась на улице, лёжа на кровати. Рядом стоял топчан, на котором валетом лежали мы с сестрёнкой. Все были укрыты с головой, открыты только лица. Без конца всем троим давали нюхать нашатырь. Долго не могли ничего понять. Ложились спать дома в постели, а проснулись почему-то на улице. Недалеко валялась печка-чугунка. Сильно болела голова, звенело в ушах и тошнило.
- Мама, что с нами? Почему мы на улице? Почему нам так плохо?
- Мы угорели, деточки...
Мамины глаза были полны слёз, губы дрожали.
- Успокойтесь, Мария Давыдовна... Всё уже позади, остальное - пустяки... Слава Богу, всё обошлось.
Долго потом мама рассказывала, что многие семьи так угорели. Если бы она легла спать на несколько минут пораньше, это случилось бы и с нами. Очень ругала она себя за то, что накануне написала в письме папе на фронт: «Срочно приезжай, дети при смерти». Это было начало 1945 года. Хотя Сещу освободили от фашистов, военный госпиталь ещё оставался - привозили раненых бойцов с других мест или людей, которые подрывались на минах, снарядах. Наша мама помогала перевязывать раненых, стирала бинты, готовила обеды, а мы с сестричкой служили «санитарами». Нам даже белые повязки с красными крестиками на руки одевали и белые косынки. Девочки - подружки завидовали нам. И это долго ещё продолжалось.
Так как дом наш находился ближе всех к станции, то многие люди, приезжавшие в Сещу, шли к нам: кто водички попить просил, кто погреться, кто переночевать оставался до следующих поездов. Ходили только товарные поезда, и не все люди могли уехать. Однажды я столько страха натерпелась. Мама с Тамарой по делам ушли, а меня, как маленькую, дома оставили. Я сижу у окошка, смотрю: приехал поезд, люди вышли. Вдруг от станции идёт солдат на костылях без одной ноги. Я очень боялась таких раненых. И прямо к нашему домику. Стал стучать в дверь, да так настойчиво. Я думала, что он дверь выбьет. И в окошко стучал. А я забилась на печку, плачу от страха, прямо рыдаю. До того доп-лакалась, что крепко уснула. Мама с сестричкой задержались, вернулись домой, на улице уже темно. Стучатся, а я не открываю, вдруг это тот же раненый. Мама меня уже зовёт, просит открыть, а я даже с печки слезть боюсь. Вдруг раненый меня сейчас схватит? Мама сама уже перепугалась. У меня была такая истерика. После этого меня одну дома уже не оставляли.
По маминому письму, в котором она просила папу приехать -«дети при смерти...» - папе дали всё же 10 суток, чтобы посетить семью (он ехал куда-то в командировку и попутно заехал к нам). Мы с сестричкой его даже не узнали. И когда он просил нас о чём-то, например, принести ему водички попить, мы шли к маме и спрашивали её, можно ли принести. Да мы его почти и не видели, он что-то делал по дому, куда-то с мамой ходили, что-то добывали для семьи. И пролетели эти 10 дней очень быстро. Через какое-то время после этого стала мама часто плакать. Когда к нам приходила мамина боевая подруга тётя Варя Киршина, мама плакала и жаловалась ей: «Ну надо же, приехал и оставил...» И было мне очень интересно, что же папа такое оставил, что мама так плачет. И когда они с сестричкой оджнажды ушли куда-то по делам, а меня дома оставили, я всё абсолютно перерыла в доме, но так ничего и не нашла. Долго я мучилась над этим вопросом, но ответа на него так и не нашла. Тётя Варя работала в сельпо продавцом. Один раз она пришла к нам и принесла несколько ржавых солёных рыбок - килек. Стала маму угощать, а она с нами делиться. Помню я хорошо, как сосали, а не ели мы эту кильку. Не могла мамочка наша тогда устоять перед этими ржавыми рыбками - сама съела несколько. Так ей, видно, солёного хотелось. В другое время она всю нам бы отдала. Шло время, мама поправлялась, а до нас даже не доходило, что происходит. И однажды рано утром мы проснулись с сестричкой от того, что заплакал ребёночек. Мы с Тамарочкой увидели, что мама лежит на кровати, а рядом с нею сидит какая-то чужая бабушка и держит в руках крошечное создание. Говорит она нам: «Девочки, у вас сестричка родилась». И только потом уже, спустя время, я догадалась - так вот что папа оставил, почему мама плакала. Время было очень трудное: есть нечего, одевать нечего... Нам мама это уже потом объяснила. А мы так рады были маленькой сестричке - налюбоваться на неё не могли. Она была такая красивенькая, как булочка. Валюшкой назвали её. Она появилась на свет 6 октября 1945 года.
Вот Дня Победы я почему-то совершенно не помню, как и не помню своего первого класса. Домашние задания помню: бумагу, на которой писала, вместо ручки - палочки с привязанными к ним перышками, вместо чернил - разведённая в воде сажа. А вот саму школу и учительницу первую мою не помню. Вот совершенно выпало из памяти, хотя мне уже было 7 лет. А как мы папу с фронта встречали... Мы же его не запомнили, когда он приезжал. Папа приехал только 7 ноября, Валюшке тогда сравнялся месяц. Маме сообщила рано утром папина сестра, она на телеграфе работала: «Маша, Ваня едет, встречай утром». Было уже холодно на улице. Мама послала нас с Тамарой встречать, а сама села под окошком с Валюшкой на руках и наблюдает за нами. Вот пришёл поезд-товарняк. И вышел из него всего один солдат с вещмешком за плечами. Идёт в нашу сторону - значит, наш папа. Но он нас тоже не узнал. Мы с ним поравнялись и дали ему пройти вперёд, а сами развернулись, идём потихоньку в нескольких шагах, переглядываемся с сестричкой: «Папа или не папа?» А мама смотрит в окно и показывает ему - оглянись назад... дети... Тогда он сообразил - обернулся, схватил нас на руки и принёс домой. Радости было тогда - такая встреча! Вспоминаю, и сейчас радость наполняет моё сердце. Но как отвыкли мы с детства от папы, так и называли его всю жизнь на вы, а маму на ты, хотя любили своих родителей одинаково.
Погостил папа несколько дней у нас, на работу не смог никуда определиться, аэродром и военные мастерские были уничтожены, других производств не было, и пришлось ему уехать в посёлок Сельцо, устроиться работать на завод. А когда в 1946 году я закончила первый класс, Тамарочка - второй, а Валюшка немного подросла, мы сразу же переехали туда, где нас ждал наш любимый папочка. Жили очень трудно, голодали, ели траву, варили кашу из молодых сосновых шишек, собирали и ели щавель, крапиву, лебеду. Посадим картошку в поле, она ещё только завяжется, зелёная ещё, мелкая, а мама накопает, сварит супчик жиденький, бросит в него маленький кусочек маргарина, нальёт нам в тарелки. А он такой невкусный, бульон даже зеленоватый от неспелой картошки и несколько блёсточек плавает. В горле от него режет. Мы говорим маме, что суп плохой, а мама в ответ: «А вы ешьте, ешьте, на дне тарелки Москву увидите». Съедим, а Москву так и не увидим.
Переезд в поселок Сельцо. Наша вторая родина
Итак, мы переехали в посёлок Сельцо. Папа работал на заводе и жил в общежитии, а мама с тремя детьми поселилась временно у своей сестры в бараке. Это было одноэтажное здание с длинным коридором посередине и по шесть комнат с обеих сторон -всего двенадцать, и в каждой проживала семья минимум из четырёх человек. А в нашей комнате оказалось сразу восемь человек, т.к. у сестры маминой в семье уже было четверо да нас ещё четверо прибавилось. Понятно, как мы там размещались. В каждой комнате была сложена плита, на которой готовили еду; стол, где кушали. Здание было ветхое, деревянное, в перегородках между комнатами - щели, и господствовали клопы и тараканы. А бороться с ними было нечем, просто обливали кипятком. Под самыми окнами росли низкие раскидистые сосны. И когда на улице было тепло, мы - дети - спали под ними, приглашали с собою ещё девочек-близнецов из нашего барака. Укрывались чем-то тёмным, потому что на белое садились летучие мыши, которых водилось множество. Мы укрывались с головой, оставляя одни носы, чтобы дышать. Но было так здорово, так интересно. Болтали до тех пор, пока засыпали. А утром яркое и жаркое солнышко пробуждало нас.
Потом делали ремонт этого барака, и всех из него выселили. Кому совсем было некуда деться - жили на улице. Мы вынесли кровать и стол, поставили под сосной, а для Валюшки папа сделал люльку и подвесил её на толстом суку рядом с маминой кроватью.
Как-то случилось так, что мама крепко заснула и не услышала, как Валюшка проснулась и хныкала. А мимо проходили девушки молодые (с гулянья шли) и забрали девчонку с собой, чтобы дать возможность маме нашей отдохнуть. Вдруг она проснулась, хватилась - дочери нет. Испугалась, стала искать у лежащих рядом соседок. Но девочки поблизости не оказалось. Тогда мама разбудила меня и Тамару, пошли искать вместе и наткнулись на девушек, которые играли с нею. Мама обрадовалась и поблагодарила девушек за помощь. Тогда нечего было бояться: не было ни воров, ни хулиганов, а были добрые люди, готовые в любое время прийти на помощь.
Вскоре отремонтировали старый барак и заселили в него проживавшие там семьи, а для не имеющих своего жилья построили одновременно новый. Мы в этот новый заселились и забрали к себе из общежития нашего папу.
Вот вспоминается случай: мама ушла в магазин, а меня усадила на крыльцо на верхнюю ступеньку (а их было 8 или 10) и дала мне Валюшку подержать, замотав её в белую простынку. Она поспала немного и стала крутиться. Я хотела посадить её и не удержала. Она выскочила из моих рук вместе с этой простынкой и покатилась вниз на землю. Я очень испугалась, подхватила сестричку плачущую; уселись на то же место, Валюшка перестала плакать, а травинки на простынке так и остались. Когда мама возвратилась, она сразу же поняла, что произошло. Поругала меня немного; а когда я заплакала, она крепко прижала меня к себе и поцеловала, сказав: «Нянечка маленькая...»
Недалеко от нашего жилища через небольшой лесок лежали два болота, которые люди называли «первая гать» и «вторая гать». Через них проходили узкие кладки из тонких берёз. Было очень трудно по ним переходить на другую сторону - там уже был настоящий лес с ягодами и грибами. В нём водились разные птицы. Однажды мы нашли на земле птенчика, видно, он выпал из гнезда, а мамы рядом не оказалось. Мы долго с ним играли, еды для него у нас не было, и мы решили взять его с собой. Замотали в крупные листья, он почему-то сильно дрожал. Принесли его домой, посадили на окошко, дали зёрнышек, крошек хлебных, водички. Сначала он не ел и не пил. Потом осмелел, проголодался и начал понемногу клевать пищу и водичку попивать. Затем давали ему то, что сами ели. Вскоре он подрос, поправился и выпорхнул через форточку на улицу. Мы нашли его там и отнесли в лес, посадили на то же место. Он долго пищал, наверно, звал птичек к себе. Мы постояли, оставили пищи птичкам и пошли земляники посмотреть. А когда назад вернулись, посмотрели - там уже никого не было. Мы часто искали птенчиков или птичек с перебитыми лапками, перевязывали их, подкармливали, водички приносили в жаркие дни. Такой интересный случай произошёл. Был большой праздник - Пасха. Было так тепло. Все гуляли на улице. А мы своей неразлучной компанией решили отправиться к своим друзьям-птичкам. Жили мы бедненько, но к Пасхе родители нам всегда покупали всё новое: туфельки с ремешками, белые носочки, белые платьишки с розочками на груди (нам мама сама шила), бантики в косичках. И вот такие нарядные мы отправились через эти две гати. Кладки были сырые, видимо, от утренней росы. Одну гать перешли благополучно, а на середине второй гати одной ногой я поскользнулась и сорвалась прямо в грязную липкую жижу. Естественно, и рука оказалась там же. Все громко рассмеялись, и я тоже, хотя хорошо знала, что меня ждёт впереди. Друзья помогли выбраться. Основную грязь все хором вытирали сырой травой. Думали, что же дальше делать. Одна из девочек - Таня Васюкова - повела всех к себе, у неё родители в гости до вечера уехали. И стали там мыть и стирать мои пострадавшие вещички, я сама мылась. Порошков тогда не было никаких, да и мыла не вдоволь. Все мои белые наряды выглядели тёмными. А дома был скандал, хотя на Пасху ругаться было не принято. Родители меня бранили, а сами вспоминали о своих проделках в детстве.
Жили очень голодно. Хлеб выдавали по карточкам, по сколько-то граммов в день на человека. Получишь, хочешь - сразу съешь, хочешь - на несколько раз раздели. Один раз во время обеда закапризничала, от еды отказалась. Уговаривать меня не стали - всё сами съели, и я осталась голодной до вечера. Ходила, высматривала, может быть, где припрятали, но не нашла ничего. У мамы сердце кровью обливалось, глядя на меня, но решила меня проучить. Куда мои капризы делись! Даже думать об этом никогда не смела.
Папа получал для нас с Тамарой два года подряд путёвки в пионерлагерь в деревню Домошово. Сколько было радости! Ехали на открытых грузовиках 12 км. А в лагере были разбиты бывшие военные палатки, все в дырках, простреленные во время войны. Внутри стояли по несколько деревянных скрипучих раскладушек в два ряда. Между ними посыпаны дорожки белым песком. Были частые грозы, особенно по ночам. Тогда всё сгружали туда, где не протекала крыша. Было страшно. Мы сбивались в кучи с пионервожатыми. Они тоже боялись грозы, но нас старались успокоить.
Мы любили кушать в длинной столовой. Чаще всего нас кормили рыбным супом с килькой в томате. Он был такой вкусный, и макароны с маслом давали. А на полдник по стакану очень горячего молока и по кусочку сыра. Мы опускали сыр в молоко, и он тянулся. Мы наслаждались этим. Что-то другое ещё, конечно, было из пищи, но запомнились только суп и молоко с сыром.
В выходные дни по воскресеньям родители нас навещали - приезжали тоже на машинах, автобусов в то время мы не видели и не знали.
Мы бегали на высокий курган, с которого очень хорошо просматривалась дорога. Сколько радости было, когда увидишь вдали машину! Скатывались кубарем с этого кургана и неслись к воротам лагерным. Знали, что родители привезут гостинец. Ну а нам же как с пустыми руками? Тоже собирали землянику, малину, чернику. А много ли вместится в детские ручонки? Пакетики не с чего было делать - не было бумаги. Вот и положишь в подольчик своего платьица. А от ягод потом столько следов останется! Покачает мамулечка головой, да что сделаешь. Переоденет нас в чистую одёжку, что с собой привезли, а снятую с нас заберёт. И все такие счастливые!
Школы тоже не помню: ни второго, ни третьего класса. В памяти об окончании 3 класса осталась только общая фотография, на которой учительница 3 «Г» класса Нина Алексеевна, красивая, с длинными локонами, да ещё мальчишка Гришин, которому я нос разбила.
Когда мы жили в бараках, мы познакомились с девочками из соседних домов, вместе гуляли, ходили на озеро, купались, собирали цветы и учились вышивать «стебельком». Первые мои вышивки: «яблоко», «груша» и «виноград».
Зимой 1948 года мы всей семьёй переехали в свой новый дом, который стал для нас родительским. Родители же его и строили, основную часть. Остальное достраивали все вместе. Много ещё можно вспоминать, но это будет уже не «краешек памяти», о котором я рассказала в своих воспоминаниях.
Дорогие читатели!
Чтобы вы поняли, о каком подполье я написала, прочтите ещё 2 моих стихотворения, из которых всё поймёте. Я написала их к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они хранятся в музее боевой славы Сещинского интернационального подполья, а также в моей книге «Неспелая вишня» и в исследовательской работе «Сещенское подполье глазами одного из его участников», которые находятся в музее «Воинской Славы» МОУ «Гимназия».
О подполье и книга О. Горчакова и Я. Пшимановского «Вызываем огонь на себя», и одноимённый фильм.
Героям-подпольщикам
Сещинским подпольщикам и лично моей маме Иванютиной-Савкиной Марии Давыдовне посвящаю...
Сестрёнке старшей пять едва сравнялось,
А мне тогда четыре было вовсе...
Какое время трудное досталось
И нам, и маме нашей в двадцать восемь.
На нашу Брянщину пришла война,
Изрядно землю кровью затопила,
Ни стариков, ни женщин, ни детей
Она нисколечко не пощадила.
Летели бомбы, рвалися снаряды,
В окопы уходили все тогда.
Всё это маме видеть было надо -
До самой мелочи: что, где и сколько, и когда.
Узнать всё точно было важно
И в партизанский передать отряд.
И молодые девушки отважно
Старались партизанам помогать.
И вовлекли они поляков, чехов,
Которых немцы направляли против нас,
И добивались удивительных успехов -
Образовали Сещинский интернационал.
Десятки вражеских огромных самолётов
Взмывались с шумом в небо и летели,
Но многие не возвращались из полёта,
Вот так и не достигнув своей цели.
И немцев это очень удивляло:
Перед полётом самолёты проверяли,
Исправные с аэродрома отправляли,
А о «Магнитке» прикреплённой даже не подозревали...
В немецкий штаб девчонки пробирались
С огромным риском для себя и для родных,
И через чехов план достать пытались,
Узнать расположение частей,
количество и назначенье их.
Сплочённые ненавистью к врагу
Ни смерти и ни пыток предстоящих не боялись.
Хотя на каждом видели шагу,
Как с нами грубо, зверски немцы расправлялись.
Но душу русскую фашисты не сломили
И не смогли поставить на колени пред собой,
Мы выстояли и, конечно, победили!
Хоть не вернулись многие домой...
1984 год
Память
К 40-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Я краешком памяти помню войну.
Тогда мне пошёл только пятый,
Когда вероломно на нашу страну
Послал свои полчища Гитлер проклятый.
Но всё хорошо я себе представляю,
Ведь мама моя партизанкой была
И бывших подпольщиков в доме встречала,
И с ними беседы вела до утра.
В наш дом шли студенты, входили солдаты,
И школьники в доме бывали у нас.
Их то удивляло, что было когда-то,
В сравнении с тем, что имеем сейчас.
Друзья боевые войну вспоминали
И плакали, память свою теребя,
И книгу о них горячо обсуждали,
И фильм «Вызываем огонь на себя».
И многих из них уж теперь нет в живых,
И мамы моей тоже нету...
Но вечная, добрая память о них
Живёт в моём сердце согретом.
«Вам единство
народов в сраженьях
с фашизмом
ковавшим.
Вам, героям живым и
героям со славою
павшим, -
Этот памятник и наша
любовь на столетья
В братстве русских,
поляков и чехов -
Ваше бессмертье».
(Автор не известен) 30-ти летие Победы.
1975 год