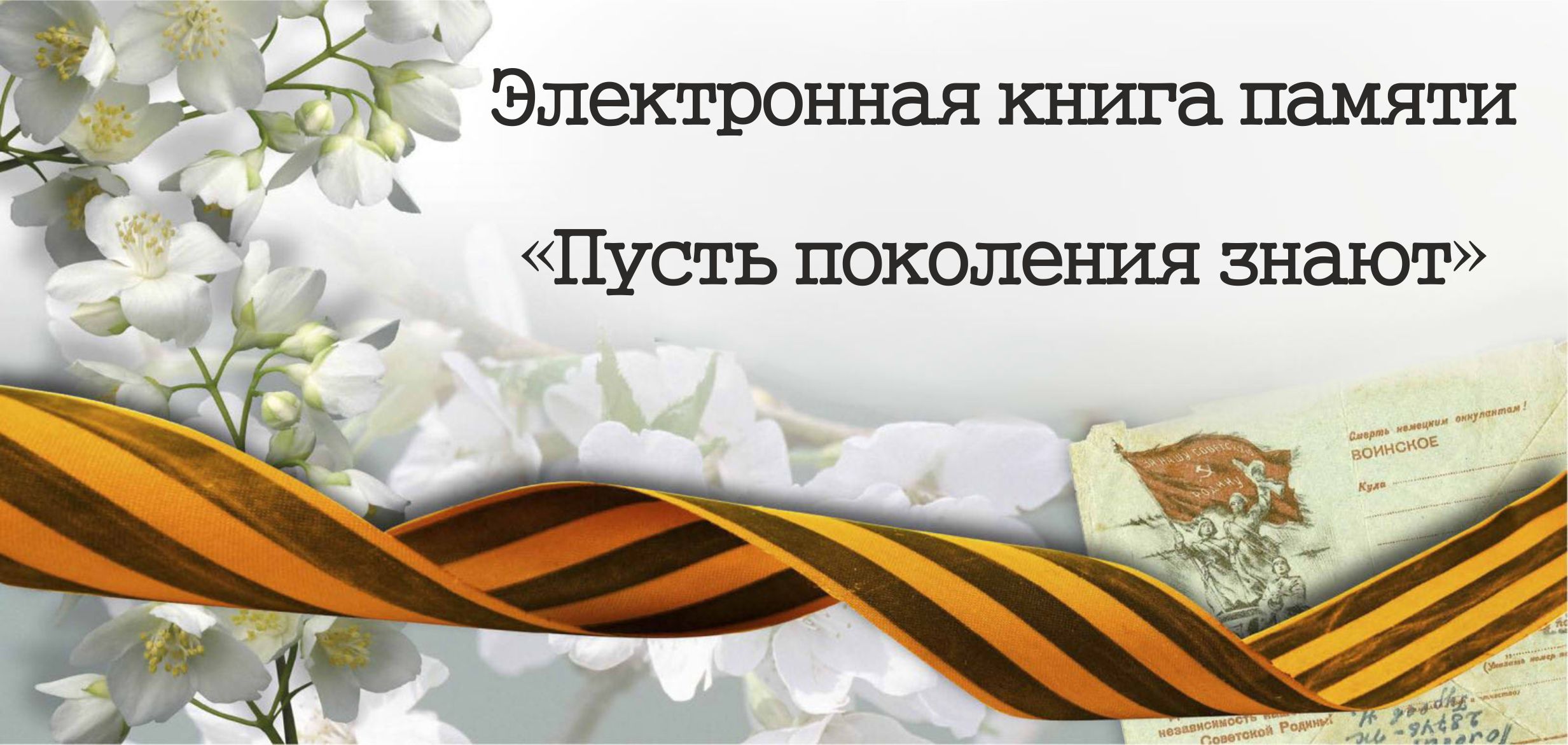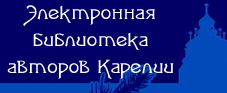Глава 1.
В приемной роддома раздался длинный пронзительный звонок. Петровна, невысокая полная санитарочка пожилого возраста, спокойно дремлющая в кресле, резко вскочила на ноги, подошла к двери, поправила сбившуюся набок косынку, быстро перекрестилась и повернула ключ. Открыв дверь, она изумилась - на крыльце никого не было.
- Кто тут? - сонно спросила она. Никто не ответил.
- Кто звонил? - бросила она в темноту. Опять тишина.
Петровна шагнула назад, захлопнула за собой дверь. Потопталась на месте. Потом, решив, что этот звонок ей почудился, успокоилась, уселась в глубокое кресло на прежнее место. Устроилась поудобней и совсем уж было собралась продолжить прерванную дрему (впереди ее ждал день, полный всяких дел и забот), как в приемную опять позвонили. Петровна вздрогнула, посмотрела на часы. Маленькая стрелка стояла на цифре 3.
- Кому-то приспичило... Вот и выспалась, -недовольно проворчала она и неохотно открыла дверь. Тускло освещенное крыльцо было опять пустым.
- Да кого же тут носит? - не выдержала Петровна. - Кто балуется со звонком? Делать больше нечего! Сами не спят и людей баламутят... Ну и молодежь пошла. Куда только родители смотрят? Дети балуются, а они спят себе спокойно. Вот раньше было... Попробовала б я придти утром, все косы выдрали бы. Во дисциплина была! С одного слова понимали и почитали родителей, а теперь совсем распустились: ночью гуляют, а днем спят или бродят, как мухи сонные да от безделья мучаются.
На дворе стояла осень. Желто-рыжие листья обильно падали с деревьев и уже изрядно укрыли землю пестрым цветным покрывалом. Дворник не успевал заметать листья с дороги, и они приятно шуршали под ногами. Петровна не торопилась возвращаться в приемную. Рожениц с вечера не поступало, поэтому ночь выдалась на редкость
спокойной. Воздух был свежим и чистым. Захотелось постоять и подышать осенней свежестью.
Здание роддома находилось на окраине небольшого города за высоким кирпичным забором. Летом здесь все тонуло в зелени, а осенью ослепляло чудесной осенней красотой.
Петровна была одета в один халат с засученными выше локтя рукавами. Ночная прохлада не позволила долго стоять на улице. Женщина вздрогнула, потянулась и только взялась за дверную ручку, как вдруг услышала глухой стон, доносившийся из темноты. Она насторожилась. Через короткое время стон повторился, затем опять и опять. Петровна перекрестилась и шагнула в темноту. Стон раздавался в кустах на обочине дороги. На опавших за вечер и ночь листьях был заметен след, проложенный колесами телеги, который круто поворачивал назад. Ясно было, что недавно кто-то подъезжал сюда на телеге и уехал обратно.
- Вот кто звонил, оказывается, а я грешила на молодежь. Да простит меня Бог, - Петровна быстро перекрестилась.
Она торопилась туда, откуда доносился приглушенный стон. В кустах с трудом заметила женщину, мечущуюся на земле. Наклонилась к ней, бережно взяла ее под руки и попробовала приподнять с земли. Женщина даже не пыталась подняться, напротив, она не хотела этого.
Петровна, собрав все силы, все же сумела оторвать упрямую женщину от земли. А когда заглянула ей в лицо, очень удивилась. Оно было вовсе не женским. Лицо было юным, почти детским. Это была совсем девчонка, попавшая сюда для того, чтобы дать жизнь своему дитю, которое упорно бьется под ее сердцем и требует выпустить его на свет божий.
- Господи, Боже мой, - взмолилась изумленная Петровна.
- Девочка ты моя милая, вишенка неспелая, да что ж ты тут мучишься на земле холодной? Ночь-то вон какая свежая, в дрожь бросает, а ты на земле мечешься... Да кто ж это тебя тут бросил? Ах, сукины дети, что делают... Пойдем, доченька, потихоньку, пойдем. Держись за меня покрепче. Ах, вишенка ж ты неспелая, ах, вишенка... Да сама ж совсем еще девочка...
На одежде будущей матери кроме прилипших осенних листьев были еще и сухие травинки. Видно, везли ее в повозке на соломе.
- Позвонить-то позвонили, а в роддом что тебя не сдали? А? Бедняжка ты моя...
Молодая женщина не проронила ни слова. Даже стонать перестала. Только сжималась вся в муках и кусала в кровь сухие губы.
- Да ты покричи, покричи, тебе легче станет. Петровна так нежно обращалась с молоденькой женщиной, будто рядом с ней была ее родная дочь.
- Потерпи, родненькая, скоро, скоро все кончится. Через часок разрешишься...
Петровна выбилась из сил, пока доставила женщину в приемную. Усадила ее на кушетку, помогла раздеться. Пока приводила женщину в порядок, та старательно прятала свое лицо. Пришла акушерка и стала заполнять карту. Но ни на один вопрос женщина не ответила.
- Глухонемая, что ли? Петровна, может она вам что сказала? Как она здесь появилась? Кто привел? Хоть бы вы что-нибудь у нее спросили...
- Никто не привел, - санитарка в двух словах рассказала о случившемся.
- Все ясно с тобой, дорогуша. Гуляете по ночам где и с кем попало, а потом и сами не знаете, от кого детей рожаете, - зло ворчала акушерка. - Какая из тебя мать получится? Сама еще зеленая, молоко на губах не обсохло, а уже с женихами трешься.
Молоденькая женщина, бросив острый взгляд воспаленных глаз в злое лицо акушерки, быстро вскочила на ноги как будто была совсем здоровой, подбежала к двери и в один миг выпалила:
- Выпустите меня отсюда, - и рухнула на пол.
- А, и голосочек прорезался... Оказывается никакая она не немая, а разговаривать с нами не хочет. Ну ничего... Заговорит еще, - все больше распалялась акушерка.
- Ну зачем вы так жестоко, Любовь Михайловна? Ведь девчушка она еще совсем, стесняется.
Петровна подбежала к женщине, подтащила ее к кушетке, уложила на нее.
- Полежи, деточка, скоро все пройдет.
- Под мужика ложиться не стесняются, а тут такие тихие да скромные, - не унималась акушерка.
- Да хватит вам уже, ну зачем ворчать на девчонку? Ей и без того лихо...
Вскоре появилась на свет маленькая девочка с черной лохматой головкой, аккуратным тоненьким носиком и кругленьким, как пуговичка, ротиком. Медработники любовались на девочку.
- Ну до чего ж хорошенькая, точно Дюймовочка. Надо же такой уродиться. Вот уж родителям на счастье...
- Какие там родители? - шептались между собой некоторые из них.
Роды были преждевременными, поэтому девочку принесли на кормление только на четвертые сутки. Марина (так звали юную мамашу) редко вставала с кровати, не всегда ходила даже в столовую и ни с кем не разговаривала. Она часто укрывалась с головой одеялом и горько-горько плакала. Когда женщины пытались уговорить ее - плач переходил в рыдания, и тогда приходилось оставлять Марину одну. Часто, плача, она засыпала. Постель ее была мокрой от слез и подступающего к груди материнского молока.
- Марина, тебе сцеживаться надо, а то грудь разопрет, - говорили ей соседки по палате.
Но она ничего не хотела слышать: или плакала, или лежала, устремив пустой взгляд в потолок. Когда «Дюймовочку» вместе с другими детьми внесли в палату, детская сестра поднесла маленький конвертик с черной головкой к кровати, на которой лежала укрытая с головой молодая мать, и ласково сказала:
- Просыпайся, мамочка, дочурка в гости пришла. Но Марина не шелохнулась.
- Мамочка, посмотри, как мы проголодались. Вон как ротик раскрываем. А какие мы красивые, так на мамочку похожи... - продолжала уговаривать детская сестра, нежно прижимая к себе маленький живой комочек в розовом одеяльце.
- Вот мне бы такую девочку Бог дал, - прослезилась она и украдкой смахнула слезы с глаз.
Уговорить Марину так и не удалось. Тогда сестричка подняла одеяло и положила девочку под грудь матери. Ребенок, почувствовав запах материнского молока, неловко зачмокал полными губками. Но ничего не получив, резко и обидчиво заплакал, открыв круглый ротик. Мама не сдвинулась с места. Женщины, с удовольствием кормящие детей, оторвали взгляд от своих желанных любимых крошек и устремили на Марину. Она лежала неподвижно.
- Может быть, она неживая, - тревожно зашептались женщины. - Нужно кого-то позвать.
Услышав эти слова, Марина слегка пошевелила ногами - подала знак, что она жива. Женщины все вместе стали уговаривать ее покормить дочку. Каких слов только ни наговорили, каких историй ни нарассказывали, но ничем не смогли разжалобить молодую мать.
Когда пришли медсестры забирать детей после кормления, они пытались силой дать материнскую грудь малышу, но Марина вырывала ее из рук сестричек и прятала под рубашку. Видно, кто-то надоумил ее не давать грудь ребенку, чтобы не привязаться к нему.
Груди от постоянно подступающего молока расперло, поднялась высокая температура, и Марину перевели в изолятор. А девочку поочередно кормили чужие мамы, любуясь на нее и даря изумительному маленькому созданию много ласковых теплых слов.
- Если бы мать хоть одним глазом глянула на девочку, она бы сразу полюбила ее и никогда бы не отказалась от нее, - сказала одна из рожениц.
- Так она же не хочет даже взглянуть на ребенка, чтобы не запомнить его и чтобы дите не стояло у нее перед глазами, - добавила другая.
- Ну как так можно? Неужели у нее нет сердца?.. Много разных слов было сказано в адрес Марины. Кто сочувствовал ей, кто, наоборот осуждал, но словами делу не поможешь.
Выписалась из роддома Марина одна, без ребенка, не оставив своего адреса.
Глава 2.
Прасковья Ивановна, очень суетливая женщина, низенького роста, худенькая - «былинка», как называли ее односельчане, жила в родном селе всю свою жизнь. Голодное и холодное детство, нисколько не лучшая юность и трудная замужняя жизнь так и не дали расцвести ее женственности. Пребывая в постоянных заботах о доме и семье, работая в поле, ей некогда было посмотреть на себя. Не всегда причесанная, наспех накинув платок на голову, на ходу поправляя на себе одежду, Прасковья Ивановна выбегала из дома, на бегу выкрикивая то, что не успела или забыла наказать детям. Их было трое.
Старший сын Андрей служил в армии. Павел, которому только что сравнялось семнадцать, целыми днями помогал матери добывать лишнюю копейку на кусок хлеба или одежку, которых в семье так не хватало.
Дочь Марина была в семье младшим ребенком, но давно уже научилась вести домашнее хозяйство, а когда ей исполнилось четырнадцать, стала разносить почту в своем и соседних селах. Ходить приходилось много. Летом, как мотылек, носилась от дома к дому, от села к селу. Зимой же дороги заносило снегом, и усталая девчонка-почтальон еле ноги волочила домой.
Как-то в селе появился незнакомец. Долго бродил он по улицам, беседовал с прохожими. А когда вечером женщины приехали на тракторе с тележкой с поля, он смело подошел к ним и прямо спросил:
- Ну что, бабоньки, в мужике кто-нибудь нуждается? Женщины, улыбаясь, переглянулись. Ошарашенные таким предложением, начали шептаться.
Перед ними стоял высокий мужчина с крутым лбом, высокими залысинами. Волосы густые, черные, непричесанные смешно торчали в разные стороны. На лице - густая черная щетина. По всему видно было, что он давно уже не жил дома. А слегка впалые щеки говорили о том, что долго не ел досыта. И одежда на нем была довольно изношенной и измятой. Видно, и спал он где попало.
Заметив смущенные лица женщин и уловив некоторые слова, понял, что здесь его не оттолкнут.
- Какая-нибудь приголубит, - решил пришелец.
- Да чем же я не мужик, смотрите, бабоньки... Вон какие руки! - он протянул их, обветренные, грубые, в желтых сухих мозолях.
- Вот этими руками многое могу сделать: починить крышу, подправить забор, сложить печку... Но в поле работать не пойду, сразу говорю. Кто такого примет, а? Подумайте хорошо, бабоньки, чтоб не жалели потом. Жениха упустить нетрудно, - подзадоривал он женщин.
- Да и бабам трудно одним без мужика-то, что уж там говорить, - заговорили женщины наперебой.
- Судя по рукам, мужик ты работящий. Такие везде нужны, - добавила одна.
- А родом-то откуда будешь? Видно, издалека прибыл?
- У нас в округе такого не видно было...
- Да и не слышал никто...
- Поживем вместе - все узнаете. А теперь, кто решится принять вот такого щетинистого? - с улыбкой спросил незнакомец.
- Когда мужик небритый, к нему больше доверия! - бойко выкрикнула, подбоченясь, стоящая рядом женщина. Товарки громко засмеялись. Оробевшие вначале бабоньки становились все смелее.
- Ну а зовут-то тебя как?
- Николаем Михайловичем величают, а чтоб проще было, Михалычем можно дразнить.
- Ну что ж, Михалыч, выбирай, какая тебе по душе больше, - не унимались осмелевшие женщины, проталкивая вперед «былинку».
В селе много одиноких женщин. И каждая не против иметь мужа. У любой немало работы по дому. Но в самом плачевном состоянии было жилье Прасковьи Ивановны. Не совсем еще окрепшие сыновья не могли везде успеть.
Муж у «былинки» пил без меры и пользы дому почти не приносил. Дрожащие от постоянной пьянки руки не слушались своего хозяина. Смотрит, бывало, Прасковья Ивановна на его работу - не выдержат нервы, выхватит топор у него или молоток и пошла сама гвозди заколачивать или дрова рубить. Посмотрят на нее соседи:
- В чем только душа держится? А работать надо... Сдох бы лучше... Совсем бабу высушил, пропойца чертов. И смерть его не берет...
- На том свете плохие тоже не нужны...
И смилостивился Господь над несчастной женщиной: год назад Прасковья Ивановна овдовела. Не сильно она убивалась по мужу. Поплакала немного и успокоилась. Теперь она - глава семьи, все на себя возложить надо, хотя и так все на ней держалось.
- Осчастливил бы ты, Михалыч, нашу «былинку» - Прасковью. Шибко ей тяжело живется одной с тремя детками. Вот и поможешь ей. Хата у нее давно уже ремонта просит. Когда еще сынок ее старшенький из армии вернется... Да как на грех, еще в Морфлот попал, пять годков служить придется.
- А там и второго сына призовут. Выходит так, что и есть мужики в доме, и нет их...
- И ты, Михалыч, постоянно под крылышком женским будешь. Вдвоем-то никакая беда не страшна, - говорили женщины оживленно. И уже не чужой человек стоял перед ними, а давно знакомый односельчанин.
- Помоги, помоги Прасковушке. Вон она у нас какая красивая да хрупкая. Обнимешь покрепче, так вся и влезет в твою душу. Филька-покойничек, муж ее, пил много. А когда был трезвый, нарадоваться на нее не мог. Всем признавался, как любит жену свою. По душе ему трезвому было, когда в селе называли ее «былинкой», - рассказывала ее соседка.
- Бывали минуты, когда сядет Филька на скамеечке под домом, позовет к себе Прасковью, посадит рядом, возьмет в руки балалайку и скажет: «Вспомним молодость, «былинушка...». Да и споют вместе «Горькую рябину» или еще какую-нибудь грустную. А веселые песни не пелись. И сидела Прасковья такая счастливая от доброго слова мужьего...
- Только грустные и пели. А откуда им веселым-то взяться? От нужды такой не сильно распоешься...
Женщины жалели Прасковью и всей душой желали ей добра. Вот и теперь они хотели видеть ее счастливой.
Положив большую жилистую руку на плечо «былинки», шел Михалыч к своему новому жилищу. Павел и Марина встретили его недружелюбно. Осмотрев с ног до головы чужого дядьку, которому предстояло жить с ними под одной крышей, что-то шепнули друг другу и вышли из дома.
- Что это они? Наверно, догадались...
- Ничего, свыкнутся. Ты только не обижай их. Дети у меня хорошие, работящие. Да слабоваты они здоровьем, молоденькие еще, худенькие, - как бы оправдываясь, говорила Прасковья Ивановна.
- Были б кости, а мясом обрастут, - грубо по-мужски пошутил Михалыч.
Больно как-то дрогнуло сердце матери и от шутки незнакомого человека и от того, что дети вышли, оставив взрослых наедине.
- О чем они там беседуют, что решают? - волновалась мать.
- Ну, с чего начнем? - сухо спросил Михалыч.
- Ой, сама даже не знаю. Надо детей дождаться да с ними поговорить. Взрослые они уже. Я теперь сама такие вопросы не смогу решать. Ведь не на один же день? - Прасковья Ивановна вопросительно посмотрела на Михалыча.
- А это жизнь покажет. Думаю, споемся...
- Споемся-то споемся, а вот уживемся ли?
- Не горюй, «былинка», я не подведу.
Глава 3.
Завидовала Марина девушке-почтальонке из других сел. Только растает снег, садится она на велосипед, вешает на руль почтовую сумку и несется с песней от села до села. Вода ли под ногами, пыль ли или первая пороша - ничего ей не страшно. И обувь так быстро не снашивается, как у Марины. Пробовала она босиком ходить, да сильно не разбежишься: то пальцы в кровь собьет, то ступни исколет о сухие глинистые комки.
Не покидала Марину мысль о велосипеде. Но из-за нужды в семье высказать эту мысль матери девушка не решалась. Но как-то за ужином она случайно проговорилась о своей мечте. Мать осторожно приложила палец к губам - дала знать, чтобы дочь замолчала, и искоса взглянула на Михалыча.
- Этого еще не хватало. Молодая еще верхом ездить, - недовольно заворчал он.
Мать проглотила ком слез, а Марина выскочила из-за стола, забежала в свою комнату, бросилась на кровать и заплакала, уткнувшись лицом в подушку.
Утром Прасковья Ивановна чуть свет ушла в поле, пока солнце еще не поднялось. Павел ночевал на сеновале, а Марина так и осталась спать на кровати одетой с вечера.
Михалыч никуда не торопился. Проснулся, потянулся с удовольствием в кровати, затем опустил ноги на пол, сунул их в стоптанные башмаки. Посидел немного, о чем-то подумал, затем снял башмаки и босиком, осторожно и мягко, как кот, вошел в комнату, где спала Марина.
Она так и лежала, уткнувшись лицом в подушку, видно долго плакала, пока сон не сморил ее. И вот так, в одном положении, проспала всю ночь.
Легкое платье задралось на бедрах, и хорошо видны были обнаженные, тонкие, почти детские ноги.
- Тоньше, чем у «былинки», - подумал Михалыч. - А откуда им толстым взяться? Совсем еще девчонка... Наплакалась вот, а из-за чего? Велосипед хочет, а купить не за что... Что ж, придется помочь. Вот сложу печку Василисе, да погреб Матрене подремонтирую, вот и будут денежки. Горло, правда, попридержать придется... Трудновато будет, ну что ж, попробую помочь девчонке.
Худенькое тельце Марины вызывало жалость в душе Михалыча. Вспомнилась Верочка - родная его дочь, почти такая же возрастом и не менее хрупкая, чем Марина. Веру отец почти не воспитывал - постоянно находился в разъездах. А когда и дома бывал, тоже мало видел: то с дружками за бутылкой сидел, то с женой ссорился. Довел бедняжку до того, что выгнала его. Вот и пошел искать, где его приютят. Надо хоть тут держаться, чтоб не выпроводили. Сколько ж мотаться можно?
- Помочь, надо помочь.. А что взамен? - неожиданно для себя вслух произнес Михалыч. Он впился жадными глазами в обнаженные ноги падчерицы.
Марина вздрогнула, услышав мужской голос в своей спальне. Резко вскочила на ноги.
- Что вам здесь нужно? - испуганно вскрикнула она, пытаясь выбежать из комнаты. Но Михалыч преградил ей путь, стоя в дверях.
- Что вы, что вы? Дайте пройти... Я... Я... опа... опаздываю на... на работу, - умоляла Марина, заикаясь от волнения и предчувствуя недоброе. - Выпустите меня отсюда.
- Выпущу, конечно, но при условии...
- При каком условии? - спросила девушка, дрожа от страха, как осиновый листочек.
- Будем бороться... Победишь - выпущу, не победишь - останешься вот здесь...
Он мгновенно протянул длинные руки, грубо схватил Марину и стиснул в объятиях, жадно впившись губами в шею девчонки.
Марина пыталась кричать, звать на помощь. Но ей только казалось, что она кричит. Из туго сдавленной ее груди вырывались еле слышные звуки. Пыталась укусить его за что-нибудь, но и этого не смогла сделать. Она была зажата в «клещи». Силы были не равны. Измученную, перепуганную девчонку озверевший, дрожащий, как в лихорадке, Михалыч бросил на кровать, сорвал с нее одежду и... «поборол», едва не задушив алчным поцелуем...
Глава 4.
«Мама, я несколько дней поживу у подруги Тони в Сосновке. Ее родители уехали в гости. Она боится одна быть дома, просила меня приехать. Почту будет за меня носить Люська, я с ней договорилась. Прости, мамочка, что не предупредила раньше. Я сама не знала.
Марина»
Записка была написана крупным размашистым почерком и вложена в карман материнского фартука. Дочь знала, что мать найдет ее там сразу же, как только наденет его.
Прасковья Ивановна вернулась с работы раньше обычного. И хотя не выполнила своей нормы в поле, решила уйти домой. Какое-то недоброе чувство тревожило ее.
- Наверное, что-то дома случилось, - беспокоилась она. - Но что? С Михалычем ничего не должно случиться... Павел... Может, что с ним? На тракторе ведь работает... Да я бы уже услышала, дурные вести быстро разносятся. Нет, там не должно быть...
- Марина! - вдруг обожгло женщину.
Прасковья Ивановна ускорила шаг. Уже не шла - бежала, спотыкаясь о нераспаханные сухие комья земли.
- Она же вчера из-за стола выбежала... Что с нею? Дура я старая, что же я утром в ее комнату не заглянула? Живая ли она - пчелка моя милая? - говорила сама с собой Прасковья Ивановна.
- Ах, эта проклятая бедность! Велосипеда девчонке купить не можем. А Михалыч на горло свое не жалеет... Все, хватит! Сегодня же все обсудим, чего бы это ни стоило, - твердо решила Прасковья Ивановна.
Подбежала к дому. Дверь была закрыта на колышек.
- Значит, ушли недалеко...
Вошла в дом. В первую очередь заглянула в комнату Марины, потом в каждый закуточек - все было на своих местах. Быстро переоделась. Откусила несколько раз от длинного зеленого огурца, лежащего на столе. Посмотрела кастрюли и чугунки. Все они были пустые.
- Что-то Михалыч ничего не сварил сегодня. И сам куда-то подевался... И Марины нет дома. Неужели еще не вернулась с работы? - вслух размышляла женщина.
- С чего же начать? Вода есть дома или нет?
Она заглянула в ведра. Воды в них было на донышке.
- Господи, да что же это Михалыч тут целый день делал? Надо теперь самой идти. Сейчас растоплю печку, пусть дрова разгораются, а я на колодец сбегаю.
Жизнь научила сельских женщин крутиться и вертеться. Прасковья Ивановна сунула руку в карман фартука, чтобы взять спички, и нашла там бумажку.
- Что это? - развернула листок. - Записка от Марины... странно... - сердце ее заколотилось.
Прочитав бумажку, тяжело опустилась на скамейку, сложила руки на груди и задумалась. Прежде Марина никогда не уходила к подруге.
Тревога не покидала женщину.
На колодце ее встретила соседка.
- «Былинка», что это почту сегодня Люська разносила? А Маринка твоя где, захворала что ли?
- Да нет, здорова она, в Сосновку уехала, к подруге. Родители у нее в гостях. Так девчата поживут вместе. Одной-то страшновато дома...
- Ой, гляди, «былинка», чтоб не натворили они там чего. Молоденькие девчата, парни пристанут... узнают, что дома одни...
- Да не выдумывай ты ерунду всякую, Василиса, - оборвала ее Прасковья Ивановна.
В своей дочери она не сомневалась. И о Тоне плохого не слышала.
Когда вернулась с водой, Михалыч был уже дома. Пошатываясь по сторонам, мотался взад-вперед по кухне, заглядывал в пустые чугунки.
Услышав звон ведер в коридоре, громким пьяным голосом спросил:
- Поесть нечего? С голоду подыхаю...
- А что ж сам не сварил ничего? Я тоже не меньше тебя есть хочу. Это я тебя спросить должна... За целый-то день...
- Ждете, когда я наварю. Совсем уже в бабу превратился. Вон Марина, девка уже здоровая, пусть и крутится на кухне. А то одну свою почту и знает, - разворчался Михалыч.
- А порядок в доме на ком держится? А огород кто полет? Кто по-твоему, ты что ли? - доказывала разгоряченная «былинка».
- Ладно, цыц! Разболталась, баба! Только волю вам дай...
- А Марина где? - наигранно недовольно спросил Михалыч.
- На вот записку, читай.
Прасковья Ивановна подала ему смятую бумажку. Он взял ее дрожащими руками, нервно развернул и пробежал жадным торопливым взглядом по написанному.
- Ну что ж, пусть немного отдохнет. На ее век еще хватит работы, - с умилением произнес он, заглаживая свою вину.
- Слава Богу, подобрел... Наверное, после вчерашнего разговора, - немного успокоилась Прасковья Ивановна.
Глава 5.
Через несколько дней Марина вернулась домой. Она знала, что мать еще в поле. Сразу заглянула на сеновал. Там спал спокойным сном, мерно посапывая, Павел. Нежно коснулась рукой его щеки, потом ласково потрепала брата за волосы. Павел с трудом открыл глаза.
- Сестренка? Появилась? Видела, какой сюрприз тебя ожидает? Нет? Не видела еще?
Марина похолодела... Сердце забилось неровно, ноги подкосились. Не смогла ничего ответить брату. Стояла молча, держась за косяк, боясь упасть, не глядя на него, бледная, как липа.
- Чего испугалась? - спросил Павел, заметив, как мгновенно изменилась Марина.
- Да так. Ничего... Чего пугаться? - голос ее дрожал.
- Что, и вправду не видела? Иди посмотри, какой красавец стоит в коридоре. Иди, иди...
Неровной походкой пошла Марина к дому, открыла дверь пошире. Не сразу вошла в коридор. Всмотрелась в темноту после ослепительного солнца и увидела стоящий там блестящий новенький дамский велосипед. Тревожное чувство сменилось радостным.
- Наконец-то моя мечта сбылась. Но где мама взяла столько денег? Ведь их у нее не было.
Марина была полностью посвящена в финансовые семейные дела. Мать всегда советовалась с детьми и Михалычем, что купить сейчас, а что еще потерпит.
- Наверное, мама подумала, что я специально из дома ушла после того последнего разговора о велосипеде. Слез моих, видно, не перенесла. Вот и купила мне его. Наверное, в долги влезла, - рассуждала Марина.
Вдруг в доме послышалось тяжелое шарканье башмаков. Девчонка, как ужаленная, выскочила из коридора, дрожа от страха. Остановилась во дворе, не зная, как ей быть дальше. Нужно было войти в дом, переодеться, взять рабочую сумку... И вообще... придется дома жить. Куда ей деться от этого? Никуда. Уехать не сможет, ведь ей еще нет и пятнадцати. Никто паспорта не даст. Да и мама... Как она без дочери будет? Не справиться ей одной и в поле, и дома. Она так ждала, пока дочка подрастет...
Ленивой сонной походкой из дома вышел Михалыч с заросшим щетиной, измятым и отекшим от пьянок и беспорядочного сна лицом.
- Зверь, лютый зверь, - с негодованием и глубоким отвращением произнесла Марина, не боясь, что ее слова будут услышаны.
- Напрасно ты так... Знаю, виноват я перед тобой, очень виноват. Ну не сердись. Ну прости ты меня ради Бога. Сам не хотел. Бес меня попутал. Мужик я... мужик... Да не понять тебе этого...
- Прости меня, Маринушка! На колени стану перед тобой. Только прости... Все для тебя сделаю, что захочешь. Пить брошу, завяжу с этим делом, - вполголоса, чуть не плача, говорил Михалыч. - Вот велосипед тебе купил. В коридоре стоит. Дамский, чтоб легче было садиться. Ни у кого в селе такого нет, - продолжал он.
- Да я в то утро и зашел к тебе в спальню, чтоб сказать о своих планах. А увидел ножки голенькие, вот и сыграло во мне мужское чувство. Не смог устоять. Ну, прости меня, доченька, - голос у Михалыча дрожал. Он встал на колени перед плачущей Мариной, целовал ей ноги, бился лбом о землю, прося у нее прощения.
- Вы не только обесчестили меня, но и предали маму. Как я ей теперь буду в глаза смотреть? Это вам все равно, а мне, мне горько, - слезы градом катились из ее глаз.
- Зря ты это говоришь. Я тоже не могу прямо смотреть на мать. Вот и зарядил с пьянкой.. А сейчас я перед тобой совсем трезвый стал. И клянусь тебе, Мариночка, я все сделаю, чтоб и ты, и мать были счастливы. Только, ради Бога, прошу тебя, чтоб ни одна живая душа не знала о случившемся. Не разрушай счастья материнского. Я сделаю ее счастливой, я сделаю... Все увидят. А ты меня не бойся. Такого больше не повторится. Поверь мне, дочка...
Прежде Михалыч никогда не называл ее так, и от этого слова на душе ее стало теплее.
- Встаньте с земли, - тихо проговорила она. - Я прощаю вас. Ради мамы.
Прошло несколько дней.
Марина не трогала велосипед, доставшийся ей такой ценой. Домашним говорила, что стесняется ездить на дамском.
Но вскоре она почувствовала себя плохо: постоянная тошнота, рвота, головокружение заставили ее сесть на велосипед, чтобы поскорее развезти почту и полежать лишний часок на сеновале. Днем туда никто не заглядывал.
Сразу девчонка не могла понять, в чем дело, от чего такое состояние. Но спустя два месяца сообразила, что случилось.
Время шло. Марина поправлялась. Она боялась, что кто-нибудь заметит это и догадается, и утягивала живот большим тонким платком, насколько могла. Старалась пореже попадаться на глаза матери, брату и виновнику ее нелепого положения.
В голове была лишь одна мысль - как избавиться от ребенка. С матерью не могла поделиться. Если бы сказала ей об этом, может быть та и смогла бы как-то помочь. Но боялась, что не сможет солгать маме, ведь она будет настаивать, спрашивать, кто и где. Марина никогда раньше не кривила душой. Обмануть маму? Да разве можно такое сделать? Они были большими подругами. И если бы в этой трагедии не был замешан Михалыч, Марина поделилась бы с мамой обязательно.
А теперь все нужно решать самой. Два раза стояла над высоким обрывом, собираясь утопить себя со своим горем в быстрой, глубокой реке. Но какая-то невидимая сила уводила ее оттуда. Несколько раз приготавливала уксус, чтобы выпить побольше и уйти из жизни вместе с дитем, которое уже давало о себе знать. Но какой-то голос сверху кричал ей: «Не смей этого делать!». И решила Марина: «Будь, что будет».
Как-то Прасковья Ивановна сильно простудилась и заболела.
- Марина, доченька, сводила бы ты меня в баньку, попариться мне надо, и все пройдет. Болеть некогда. Осень уже.
Погода не ждет. Погниет все в поле, пока лежать буду. А сама не смогу, очень уж слаба. Скажи Михалычу, чтоб баню натопил. А ты помоги, Мариночка, ему воды наносить.
- Конечно, мамочка, все сделаю.
Не могла Марина отказать матери, но как пойти с ней в баню? Мама все заметит. Придется что-то придумать. И вдруг она вспомнила о тех днях, когда была в Сосновке.
- Скажу, что все случилось там. Но ведь мама может спросить у Тони да еще устроить там скандал. Нет, не могу подругу под удар поставить, да еще ни за что. Буду сама за все отвечать.
Марина мучилась, пыталась найти выход и, наконец, придумала: «Ведь я же ношу почту в соседние села. Вот и подловил какой-то подлец... Слава Богу, нашла, что сказать. Мама поймет меня. Может, и хорошо, что она меня в баню позвала. Только плохо, что мамочка заболела. А я ее теперь совсем добью...».
Марина боялась, что с матерью будет истерика, и сможет ли она ей помочь...
После бани Прасковья Ивановна совсем слегла, потрясенная услышанным и увиденным. Марина очень боялась, что мать не переживет этого. Что она будет делать без самого близкого ей человека, пятнадцатилетняя да еще и с ребенком на руках, сама еще почти ребенок?..
- Надо маму успокоить, не выходило из головы дочери. - Скажу ей, что не возьму ребенка из роддома. И сделаю так в самом деле. Вот и выход из положения. И греха большого не будет, я же не убью дите? Нет. А кто-нибудь, может, нуждается в детях. И возьмет его себе. Или в детский дом заберут. Там ему не хуже будет. Чего жить ребенку в нищете? - совсем по-взрослому рассуждала будущая юная мать. Она совсем успокоилась от этой мысли. Это было самое подходящее из всего ранее придуманного.
С широкой улыбкой на лице, давно уже не видевшем ее, Марина подошла к матери, присела около нее на кровать, нежно положила свою руку на ее больную грудь и весело сказала:
- Мамочка, не волнуйся, я все решила.
И выложила то, что надумала. Прасковья Ивановна долго рассуждала, сомневалась и наконец сказала:
- Правильно ты решила, Мариночка. Нам ничего другого не придумать. Если ты принесешь ребенка домой, Михалыч и меня, и тебя из дома выгонит. Или сам от нас уйдет. А мне его так терять не хочется. Смотри-ка, вон как за ум взялся. И велосипед тебе купил, и пить совсем перестал. Если б раньше, когда пил, пусть бы уходил, а теперь жалко. Сейчас любая за него пойдет... Наверное, доченька, это счастье мое ко мне пришло, а жить уже некогда...
- Что ты, мамочка, Господь с тобой. Это ж ты из-за меня слегла. А теперь есть выход. Ты не расстраивайся. Никто ничего не узнает.
Окрыленная предложением дочери, мать повеселела, стала понемногу есть, вставать с постели, выходить на улицу. А вскоре и за работу принялась. Дочь радовалась за нее.
То ли от тяжелой работы, то ли от того, что Марина целых три месяца сильно утягивала живот, а в последнее время - все туже и туже, начались сильные боли в пояснице, затем - в животе. Марина поделилась с матерью. Посчитали вместе, что еще не срок родить.
- Наверное, семимесячный будет... Может, даст Бог, неживой родится. Грех беру на душу, но в нашем положении так будет лучше, - сказала Прасковья Ивановна.
К ночи боли усилились, и мать побоялась оставить Марину до утра дома.
- Да ночью еще и лучше будет, никто не увидит и не услышит, - взволнованно говорила мать.
Дождались, пока Михалыч уснул покрепче, а Павел ушел в соседнее село провожать девушку с танцев. Прасковья Ивановна запрягла лошадь, бросила в повозку несколько охапок соломы, накинула сверху видавшее виды рядно, затем положила Марину, старательно накрыв ее старым одеялом. На всякий случай прихватила узелок с чистыми простынями. И сказала:
- Ну, дочь, придется потерпеть...
По селу ехали медленно, а как в поле выехали, гнала лошадь изо всех сил. Боялась, что не успеет довезти до роддома.
- Вдруг в дороге родит? Что делать буду? Дай Бог, доехать. Господи, смилуйся над нами, - умоляла Прасковья Ивановна, погоняя лошадь уставшими дрожащими руками.
Когда въехали во двор роддома, мать помогла дочери слезть с повозки, строго-настрого наказала ни с кем не говорить, ни одним глазом не глядеть на ребенка и ни в коем случае не давать грудь.
- Домой возвращайся одна, - наказывала она дочери. - Помни, что у тебя есть еще два брата, не позорь их. А для Михалыча и Павла что-нибудь придумаю сказать про тебя. Ну, с Богом!
Она перекрестила Марину. Нажала на кнопку звонка, быстро вскочила в повозку и погнала лошадь со двора.
Глава 6.
До трех месяцев маленькая «Дюймовочка» находилась в роддоме. Все любили ее и старались лишний раз подержать на руках, пожалеть ее, а иногда и плакали над ней. Особенно детская сестра Леночка, нежная и ласковая, которой Бог не дал стать матерью. Прожила она с мужем пять лет и не смогла родить ему ребенка, по этой причине с ним и рассталась.
Надолго после окончания смены задерживалась она в детском отделении. То носила девочку на руках, то стояла у кроватки и любовалась спящей красавицей. А когда, спустя три месяца, ребенка перевели в Дом малютки в другом городе, Лена сильно загрустила, замкнулась в себе и все больше и больше задумывалась, не слыша иногда голосов людей, обращавшихся к ней. На вопросы сослуживцев отвечала неохотно, а иногда и невпопад. Потом как-то неожиданно уволилась с работы и куда-то уехала. Поговаривали, что это «Дюймовочка» свела ее с ума; за нею подалась.
Долго и упорно добивалась Лена удочерения полюбившейся ей девочки. Но то семья была неполной, то жилищные условия не позволяли... Так и прожила она еще три года рядом с любимой крошкой, работая детской сестрой в Доме малютки. Наконец, добилась - «Дюймовочка» стала ее дочерью. Определила ее мама в детский сад и сама туда же перешла работать. Ребенок рос у нее на глазах. А когда девочка подросла, стала замечать, что других деток приводят в садик и забирают домой бабушки, а ее - только одна мама.
- Мама, а за мной бабушка почему не приходит? - спрашивала она.
Мама отвечала, что ее бабушка живет далеко в деревне и не может к ним приезжать. Сама же Лена воспитывалась в детском доме.
Глава 7.
Не бросил слов на ветер Михалыч. Хорошим семьянином стал, много спиртного не употреблял, помогал Прасковье Ивановне по дому, ухаживал за внуками (Марина вышла замуж за приехавшего в их село агронома и родила ему двух крепких парнишек).
Радовалась «былинка» и благодарила Бога за то, что послал ей такого хорошего человека. Только Марина одна знала цену этого маминого счастья. И никогда бы не рассказала ей о случившемся с нею и правду о первом ребенке, о котором тосковала и плакала по ночам. Но, прожив несколько лет в мире и согласии, как-то раз Михалыч, спасая тонувшего в реке чужого мальчугана, сам утонул. Долго плакала и рвала на себе волосы от горя бедная «былинка». И никто не мог остановить и утешить ее в этом горе. И тогда, не видя другого выхода, решила Марина рассказать матери горькую правду - почему ее дочь тогда не смогла стать матерью, а мать - бабушкой. Что натворил дорогой ее человек, по которому она так убивается, стоит ли он этого. «Былинка» была в шоке, услышав от дочери о гнусном поступке человека, в котором души не чаяла, который все перевернул в их семье, сделал их несчастными. Да это же, это же...
И решила Прасковья Ивановна разыскать девочку, которую никогда в глаза не видела. Шаг за шагом, по крохам собирала она сведения о ребенке. Чудом отыскала детскую сестру Леночку и, видя ее очень счастливую с брошенной ими когда-то крошкой, решила не ломать их счастья. А тихо-скромно, устроившись дежурной в школу, где уже училась «Дюймовочка», наблюдала за нею. Однажды девочка, потеряв рукавичку, в слезах пожаловалась дежурной:
- Мне некому связать рукавички, мама не умеет, а бабушка моя далеко живет, в деревне.
Не вынесла детских слез Прасковья Ивановна, расчувствовалась и призналась, бросившись к девчушке, очень похожей на ее маленькую Маринку:
- Я твоя бабушка, внучечка. Я твоя бабушка. Я свяжу тебе рукавички, только ты не плачь...
Март 1992 - ноябрь 2001